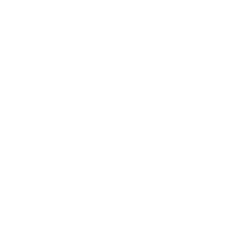Ермаков Александр Сергеевич,
канд. биол. наук,
ст. науч. сотр. каф. эмбриологии
биологического ф-та МГУ
им. М. В. Ломоносова
5 лет назад, 11 сентября 2017 года, ушел из жизни профессор биологического факультета МГУ Лев Владимирович Белоусов. Ему было 82 года, и до последнего момента он продолжал заниматься наукой, руководя работой своих аспирантов и сотрудников даже из больничной палаты. Льву Владимировичу выпала трудная, но интересная судьба. Биологической наукой он начал заниматься еще во времена товарища Иосифа Сталина, и, получается, что продолжал активно заниматься ею в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
То же самое, конечно, можно сказать про многих еще живых корифеев «сталинской закалки», на которых во многом и до сих пор держатся наука и образование в России. Но судьба профессора Белоусова все же уникальна: всю свою жизнь, начиная с юного возраста, он, по сути дела, занимался одной научной проблемой, но зато какой! – Профессор пытался ответить на вопросы о том, что такое форма живого, почему организмы ее имеют и почему организм этой самой формой интегрирован в единое целое. Как получается, что из одной-единственной клетки (примерно шарообразной по форме) появляются многоклеточные сложноустроенные организмы, в которых части тела и органы «подогнаны» друг под друга и согласованно работают?
Загадка формы живого волнует человечество издревле, по крайней мере в течение уже нескольких тысячелетий. Если говорить про западную цивилизацию, то еще в античной Греции были сформированы два альтернативных взгляда на возникновение формы живого. Согласно первому из них, организм даже на самых ранних стадиях можно рассматривать как систему «жесткой предетерминированности», то есть части яйца уже имеют неоднородность, что и предопределяет форму будущего организма (этот взгляд идет от Гиппократа). Альтернативный взгляд (от Аристотеля) предполагал возможность «образования новых форм из бесформенности». Этот, условно говоря, «спор между Аристотелем и Гиппократом» красной нитью проходит через историю биологической науки, время от времени видоизменяясь и подстраиваясь под общие представления и терминологию сменяющих друг друга эпох.
В конце XIX века были разработаны приемы микрохирургических операций на эмбрионах животных с последующим их культивированием в специальных растворах. Родилась новая наука – экспериментальная эмбриология; стало возможным не только наблюдать за развитием живых организмов, но и вторгаться в это развитие, как бы «бросая вызов» естественному ходу процессов, искусственно вопрошая Природу. Почти анекдотическим образом основатель экспериментальной эмбриологии Вильгельм Ру, проведя первый эмбриологический эксперимент, доказал (как тогда казалось) правоту Гиппократа касательно жесткой предетерминированности живых структур, а со-основатель этой науки Ганс Дриш, проведя второе экспериментально-эмбриологическое исследование, получил данные в пользу конкурирующей точки зрения. Дриш показал, что из половинки и даже из четверти зародыша может возникнуть целый организм, открыв тем самым явление эмбриональных регуляций и поставив вопрос об интегральности развития уже в эпоху бурного расцвета классической западной науки. Открытие заставило биологов на рубеже XIX-XX столетий взглянуть на живые организмы как на развивающиеся системы, обладающие целостностью и устойчивостью даже к очень серьезным нарушениям. По времени это примерно совпало с рождением классической генетики.
Большинство биологов XX-XXI веков придерживались и продолжают придерживаться концепции генетического детерминизма, согласно которой форма живого организма закодирована в информационных молекулах, а индивидуальное развитие – лишь считывание этой закодированной информации. В биологии развития наиболее четкого выражения этот взгляд достигает в теории позиционной информации Льюиса Вольперта, выдвинутой в 1960-х. Согласно Вольперту, морфология организма в ходе развития определяется градиентами сигнальных молекул, а их синтез определяется генами. Поскольку, по мнению «генодетерминистов», генетическая информация содержится в яйцеклетке (как в виде ДНК, так и в виде уже считанных и запасенных информационных РНК), этот взгляд можно считать близким к представлениям Гиппократа о предопределенности формы будущего организма, только «неоднородность» связана с распределением химических веществ (информационных молекул) и синтезированных на их основе продуктов по яйцу.
В истории XX века были, однако, мыслители, взгляды которых можно рассматривать скорее как развитие альтернативной, «аристотелевской» точки зрения, ставящие акцент не на различиях частей, а на целостности всего организма. Александр Гаврилович Гурвич (1874-1954) был одним из наиболее глубоких и последовательных исследователей первой половины XX века, пытавшихся понять механизмы интегральности развития живых систем. Работая в 1910-1920-е годы, в том числе и в страшные годы Гражданской войны в России, Гурвич выдвинул идею биологического поля, которое интегрирует организм в единое целое, при этом судьба той или иной части зависит от ее положения в целом.
У Гурвича была нелегкая судьба. Он не стеснялся критиковать властительных лжеученых, в том числе печально известного академика Трофима Денисовича Лысенко, и за это мог «попасть в опалу». В 1948 году Александр Гаврилович был изгнан с работы и уже не занимал никаких официальных постов в науке вплоть до своей смерти в 1954. Он работал в домашней лаборатории и организовывал неофициальные научные семинары, продолжая учить молодежь. Последним из его учеников был внук Лев Владимирович Белоусов (сын дочери Натальи Александровны Гурвич).
Гурвич несколько раз модифицировал теорию биологического поля, пытаясь также понять конкретные физические механизмы, отвечающие за объединение целого организма в единое целое. Многие, конечно, знают о его ставшем легендарным эксперименте с подсчетом митозов в корешке лука, благодаря которому Гурвич пришел к выводу об электромагнитной природе биологического поля и предположительно об ультрафиолетовом спектре митогенетических излучений, с помощью которых клетки обмениваются сигналами. В 1920-е годы этот феномен широко признавали, была большая эйфория по поводу открытия одной из величайших тайн живого, однако в дальнейшем представления об «электромагнитном общении между клетками» подверглись жестокой критике и к настоящему времени мейнстримовская наука относится к этой идее с большим сомнением. Поговаривают даже, что именно работы Гурвича вдохновили выдающегося русского писателя М. Булгакова на написание повести «Роковые яйца», а сам Гурвич был прототипом главного героя произведения – гениального, но плохо понимаемого современниками ученого с трагической судьбой.
Живя во времена засилья одурманивающих телевизионных шоу и бюрократической писанины, мы привыкли считать, что ученый (эксперт, аналитик, философ и т.п.) должен быть готовым ответить на поставленный (например, телеведущим) вопрос за несколько секунд или уж по крайней мере в письменном виде в течение нескольких дней обосновать свое мнение на «канцелярите». На самом деле, есть много вопросов, на которые лучшие умы человечества пытаются ответить годами, веками и даже тысячелетиями.
XX век начался с очень горячих споров, из тех, которые мало кого могут оставить равнодушными. Мейнстрим эмбриологической науки в прошлом веке получился в итоге своего рода компромиссным – сначала шел поиск компромисса между противоборствующими точками зрения внутри эмбриологии, а потом (и параллельно с этим) – еще и с захватившей умы человечества редукционистской менделевской генетикой. Развитие организма стали понимать как систему причинно-следственных взаимодействий его частей, а во второй половине XX века такой взгляд «наложился» на представления о работе генов как своего рода совокупности четких инструктивных команд.
В итоге третье тысячелетие мы встречаем с довольно странным концептуальным багажом. С одной стороны, негласно считается, что информация о строении организма закодирована в генах, а гены – это участки ДНК, с другой стороны, – не очень понятно, почему одни и те же молекулы ДНК дают столь разительно различающиеся результаты в случаях разных дифференцировок клеток, и еще более непонятно, как все это динамическое разнообразие клеток интегрируется в целый организм. Сравните, например, нейрон и клетку эпидермиса кожи одного и того же человека. Не очень-то они похожи, правда? А ведь с точки зрения генетиков середины XX века это одно и то же!
Люди с мейнстримовским биологическим мышлением сейчас объяснят вам этот парадокс примерно так: гены в разных клетках одни и те же, но работают они по-разному (по-научному говоря, экспрессия генов происходит по-разному в разных клетках). Работа генов зависит от связывающихся с ДНК белков (а они закодированы в ДНК), а также от модификаций ДНК и белков-гистонов, что, в свою очередь, зависит от белков, которые, в свою очередь опять-таки, кодируются в ДНК. То есть форма и содержание клетки в конечном итоге определяются кодирующей частью ДНК, которая в разных клетках одинакова! А клетки, образующиеся как результат прочтения такой информации, разные!
Получается, как в старом анекдоте:
— Ты где деньги берешь?
— В тумбочке!
— А в тумбочку их кто кладет?
— Жена.
— А у жены деньги откуда?
— Как откуда? Я ей даю!
— А ты сам-то где деньги берешь?
— В тумбочке!
Сейчас, конечно, в связи с бурным развитием эпигенетики ситуация в мозгах немного проясняется: становится понятно, что важна не только закодированная информация, но и устройство «машины для работы с информацией», но буквально 30-40 лет назад большинство людей, не только обывателей, но и профессиональных биологов, касательно механизмов регуляции развития живых организмов думало примерно как герой этого анекдота.
Я это все пишу не для того, чтобы раскритиковать существующие в современной биологической науке порядки и дать радикально отличающееся от мейнстрима объяснение. Скорее всего, убедительное альтернативное объяснение развития живого организма невозможно без серьезного пересмотра основополагающих философских принципов науки. Последние лет сто мы живем в ситуации, когда в человеческих разумах глубинной догмой засел лапласовский детерминизм, и, пока он будет там доминировать, вряд ли биологии удастся выкарабкаться из ловушки радикального геноцентризма. Просто хочу показать, с насколько контр-интуитивными и парадоксальными вещами работал всю свою жизнь профессор Лев Владимирович Белоусов.
Льву Владимировичу повезло с научным наставничеством. Если, конечно, «везением» можно назвать десятилетия непризнания и непонимания, полную трагической борьбы за Истину жизнь. Все мы, конечно, наслышаны о борьбе с генетикой в СССР, тема эта была очень популярна в Перестройку, она до сих пор на слуху. Гораздо меньше людей знают, что в СССР велась борьба и с другими научными направлениями – со сравнительным языкознанием, например, с кибернетикой и даже, как это ни странно сейчас звучит, с клеточной теорией в гистологии и эмбриологии.
Кроме того, велась также борьба с «идеализмом» в биологии. Теоретические работы Льва Владимировича, касающиеся применения принципов топологии, геометрии и теории симметрии для объяснения морфологии и поиска возможных механизмов интегральности живого, были встречены в 1960-е в штыки. Под понятие «идеализма» могли подогнать почти любое направление теоретической биологии. Ганс Дриш, по крайней мере, был занесен в список идеалистов, его труды выдавались в Ленинской библиотеке лишь «для служебного пользования», а те, кто читал его книги и тем более опирался на его идеи в научной работе, выглядели с точки зрения догматиков марксизма-ленинизма не очень-то надежными советскими гражданами.
Льва Владимировича сильно ругали, на него писали доносы. Сам он, в силу своей природной скромности, никогда не пытался выставить себя борцом за истину и тем более пострадавшим от коммунистической власти, понимая, конечно, что настоящему ученому в любую эпоху живется нелегко, и, какая бы ни была власть на дворе, Истина, по большому счету, мало кому нужна.
В первой половине 1970-х Лев Владимирович все больше делает акцент на понимании возможных конкретных механизмов интеграции живых организмов. Постепенно вырисовываться контуры будущей науки на стыке биологии развития и механики, которую Лев Владимирович позже назовет морфомеханикой, а в англоязычном мире не так давно появился термин «механобиология», который, скорее всего, в ближайшие десятилетия и закрепится как название данной науки. Сам Лев Владимирович рассказывал, что идея о роли механических напряжений в регуляции морфогенеза посетила его и Якова Дорфмана во время разговора в буфете, где были кожаные плетеные кресла. К стыду своему, я забыл, что это был за буфет, поистине имеющий право называться «легендарным», возможно, речь шла о преподавательской столовой в ГЗ МГУ?
Так вот, Яков Дорфман рассуждал о морфогенезе и активно при этом теребил кожаные ремешки, оплетавшие кресла. Ремешки после оттягивания начинали реагировать на деформацию, съеживаться и изменять форму. И тут учителя и ученика осенила идея о том, что живые ткани имеют механические свойства, и что механические напряжения могут интегрировать развивающийся организм. Сейчас идея о том, что живые ткани имеют механические свойства, кажется очевидной (а как же иначе? – ведь с точки зрения физики живые объекты можно рассматривать как физические тела). Для 1970-х такая идея была для биологов шокирующей. В результате экспериментов в первой половине 1970-х Львом Владимировичем Белоусовым и его учениками (Я. Дорфманом и В. Г. Черданцевым) было открыто, что ткани зародыша амфибий находятся под влиянием механических напряжений. Более того, паттерны напряжений характерны для определенных стадий и сменяют друг друга в ходе развития. Так произошло рождение московской школы морфомеханики. В начале 1980-х профессор Л. В. Белоусов и его ученики активно сотрудничают с физиком-теоретиком Борисом Белинцевым, что позволяет построить математические модели, рассматривающие механические напряжения как участников механизмов интеграции раннего развития амфибий. Сочетание математического моделирования, глубокого теоретического переосмысления феномена формы и микрохирургических экспериментов на эмбрионах позвоночных приводит к пониманию важнейшей роли механических напряжений как факторов «глобального контроля», организующих формообразование, клеточные движения и дифференцировки в ходе развития живых организмов.
В 1970-х-80-х критики Льва Владимировича постепенно отходят от риторики «борьбы с идеализмом» и пытаются перевести дискурс в разряд «борьбы с паранаукой». Уж очень не хочется употреблять эти слова в тексте памяти Льва Владимировича, но за глаза нередко говорили о «псевдоунаке», «лженауке», «полной ерунде», «человеке, который не пойми чем занимается» и т.п. Сам я лично со всем этим столкнулся в 1990-е, именно на эти лихие годы пришелся период моего ученичества, но, думаю, отношение в том же духе к его работам было и в 1970-80-е.
Основу аргументации составляли доводы «этого не может быть, потому что не может быть никогда», «у живых тканей нет механических свойств», «механическими свойствами живых тканей можно пренебречь», «вся информация закодирована в генах, поэтому механика никак не может влиять на морфогенез» и т.п. Критику по существу удавалось услышать очень редко.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что критика морфомеханики нередко шла как бы «в нагрузку» к критике Гурвича в целом и особенно его идей о биополе; и Льва Владимировича критиковали скорее за то, что он не отрекся от наследия своего великого деда, чем за конкретные научные работы. Вторая половина XX века ознаменовалась расцветом редукционисткой биологии; казалось, что редукционизм окончательно победил, еще немного – и все загадки живой материи можно будет легко объяснить в терминах химических реакций. Особенно большой оптимизм по этому поводу был у марксистов в СССР, так как считалось, что, согласно учению Маркса и Энгельса, «жизнь есть способ существования белковых тел», и что сведение свойств живого к закономерностям химии доказало бы правоту материализма и косвенным образом подтвердило бы правильность выбранного ЦК КПСС курса на построение коммунизма в отдельно взятой стране.
Редукционистов раздражала сама мысль о том, что кто-то в СССР продолжает развивать интегральную биологию, имя Гурвича старались вообще не упоминать. А Лев Владимирович, во-первых, продолжал теоретически переосмыслять идею биологического поля, во-вторых, подготовил к изданию книгу о своем великом деде, и в-третьих, помимо морфомеханики, развивал еще часть учения Гурвича, касающуюся природы морфогенетического излучения, приняв непосредственное участие в изучении электромагнитной сигнализации живых систем, и внес вклад в становление еще одной науки на стыке физики и биологии – биофотоники (наука об электромагнитных излучениях в живых системах). С конца 1980-х – начала 1990-х он активно обсуждает эти идеи с двумя самобытными исследователями биолюминесценции Ю. А. Лабасом и В. Л. Воейковым. В начале 1990-х эти работы в области биофотоники получают международный резонанс: Лев Владимирович параллельно со своей работой в Московском университете становится профессором Международного института биофизики, организованного в Германии физиком Ф. Поппом.
В конце 1980-х и начале 1990-х в стране происходит взрыв интереса к паранормальным явлениям, экстрасенсорике, уфологии, эзотерической философии, йоге и прочему мистицизму. К обвинениям Льва Владимировича со стороны редукционистов добавляются еще обвинения в потворствовании оккультизму и эзотерике. В 1960-70-е научные идеи А. Г. Гурвича о биополе проникли в советский эзотерический андеграунд и развивались уже в ненаучном аспекте в узких эзотерических кругах, сильно смешавшись с восточным и западным мистицизмом. В перестройку эти тайные знания, представляющие собой смесь обрывков традиционных учений и элементов интегральной биологии, приходят уже в массовую культуру. Благодаря этому термин «биополе» в конце 1980-х и в 1990-х у рядового обывателя больше ассоциировался с экстрасенсами и народными целителями, чем с биологией развития.
Нездоровый интерес к его работам со стороны эзотерических кругов и экстрасенсов здорово докучал: нередко приходилось чуть ли не отбиваться от толп поклонников его научного творчества, пытавшихся разглядеть в нем нового гуру, дающего сенсационные (и при этом научно обоснованные!) ответы на вечные вопросы. Помню, как умело и ловко он скрывался от толпы помешанных на эзотерике тетушек в перерывах между сессионными заседаниями Международной конференции памяти А. Г. Гурвича, которая проходила на биофаке МГУ в 1994 году. Лев Владимирович проявлял чудеса топологической изобретательности, «запутывая следы», впрочем, в этом ему, конечно, помогало прекрасное знание архитектурного устройства биофака, на котором он проработал несколько десятилетий.
Эта конференция тогда вызвала у меня небольшой когнитивный диссонанс. Поскольку я занялся экспериментальной наукой в тот год, когда остальные из нее как раз начали сбегать (в 1992-м) и, кроме нищеты и лишений, выпавших на долю русских ученых, мало что видел, мне никак не удавалось осознать, что Московский государственный университет все еще остается одним из ведущих мировых научных центров. На конференцию приехало много ученых из разных стран, и было видно, что к Московскому университету и русской науке они относятся с большим уважением. Это было очень удивительно на фоне той страшной экономической катастрофы, которая постигла Россию в ходе «шоковой терапии» в 1992 году.
С начала 1990-х происходит не только расслоение народа на бедных и богатых, но и научных лабораторий тоже. В это время в мировой науке происходит активное внедрение молекулярных методов в разных областях биологии, что в ельцинской России, конечно, мало кто мог себе позволить. Люди в основной массе работали либо вообще без финансирования, либо, если кому повезло, могли получить немного денег от Джорджа Сороса.
Ко всем прочим обвинениям Льва Владимировича добавляется еще одно – инструментарий применяемых методов слишком уж классический и дешевый, пора, мол, переходить на молекулярную биологию, а без этого, дескать, эксперименты носят устаревший характер и никого не убеждают. Особенно много шуток (иногда добрых, иногда не очень) касалось знаменитого исследования середины 1980-х, в котором искусственно приложенные механические напряжения вызывали переориентацию латеромедиальных движений конвергенции в эксплантатах дорсальной губы бластопора амфибий. Это исследование Лев Владимирович провел совместно со своими учениками И. Наумиди и А. Лакиревым. Лакирев разработал пластиковую камеру, на дне которой закреплялся кусочек латексной резины. Камера заполнялась раствором для культивирования амфибий, на латекс прикрепляли эксплантат, потом кусочек латекса можно было растянуть с помощью специального колесика, и таким образом механически воздействовать на эксплантат.
Про «резиновое изделие № 2 Минмедпрома» в СССР и без того ходило много шуток и анекдотов, в основном в невыгодном свете выставлявшее данное изделие по сравнению с западными аналогами. А тут получалось, что, наоборот, изделие сослужило огромную пользу отечественной науке – резина была плотная, тянулась ровно, после обработки «хромпиком» на нее хорошо прикреплялись эксплантаты. А западные аналоги были хлипковаты и для научных целей не годились (так, по крайней мере, говорилось в университетских легендах). Университетский фольклор про странного профессора, который тянет кусочки эмбрионов на «резиновом изделии номер 2» слышал, наверное, каждый первокурсник биофака МГУ тех лет. Я, по крайней мере, слышал эти истории еще до того, как познакомился с Львом Владимировичем. Эта изобретательность, однако, многим не нравились – слишком уж простой и дешевой получалась самодельная аппаратура, на которой решались столь серьезные научные задачи.
В конце 1990-х и начале 2000-х на Западе начинают активно изучать механочувствительные каналы и механотрансдукцию, и риторика отношения к работам профессора Белоусова в России заметно меняется. Все чаще в разговорах вместо привычного «с кем ты связался?», «беги от него скорее!» и «зачем ты такой ерундой занимаешься?» мне говорили, «слушай, а ведь есть механочувствительные каналы; получается, что то, о чем говорил Белоусов, имеет смысл…»
Насчет научного наследия профессора Белоусова будут еще долго вестись споры, но есть еще одно направление деятельности Льва Владимировича, колоссальная важность которого мало кем ставится под сомнение – педагогика и преподавание, в том числе руководство студенческими работами. Лев Владимирович – прирожденный Учитель, и, кроме того, он обладал колоссальным терпением в своей педагогической деятельности, он умел рассмотреть в каждом студенте личность со своими особенностями, талантами и интересами. К нему приходило много молодых людей, склонных к оригинальничанью, вольнодумию и имеющих завышенные ожидания по поводу быстрого получения сенсационных результатов, сейчас я просто поражаюсь, как он умудрялся все это терпеть. Мое обучение началось с того, что я в течение почти целого рабочего дня учился точить микрохирургический скальпель и иглы; профессор находился неподалеку, время от времени подходил и корректировал мою работу. Примерно в том же стиле учил он микрохирургии на экспериментальных зародышах, часами находясь рядом со своими учениками. Разумеется, именно так и можно воспитать хорошего микрохирурга, но в наше время такое конструктивное долготерпение со стороны руководителя встречается редко.
Только на прощании с профессором Белоусовым и поминках до меня дошло в полной мере, что он был учителем и наставником для разных поколений в совершенно разных эпохах – от 1960-х до 2017-го. Кроме личного наставничества он привил любовь к биологии развития тысячам людей своими лекциями, послушать которые приезжали порой из других городов и регионов.
Лев Владимирович — автор прекрасных учебников, он несколько десятилетий преподавал курс общей эмбриологии для всех студентов биофака МГУ и, кроме того, еще несколько спецкурсов на кафедре эмбриологии. Его учебники (особенно «Основы общей эмбриологии» 2005 года) для многих стали началом пути к осознанию глубочайших научных вопросов.
В последние годы появляется все больше работ, посвященных роли механических сил и напряжений в биологических системах. Еще в начале 2000-х было показано, что механические напряжения могут изменять работу некоторых генов, так что признание своих идей в области морфомеханики Лев Владимирович успел увидеть еще при жизни. С годами это признание лишь растет.
Когда уходят личности такого масштаба, классики советской науки и создатели научных школ, принято говорить, что «ушла целая эпоха». В случае профессора Льва Владимировича Белоусова, однако, ситуация прямо противоположная – его эпоха только начинается!